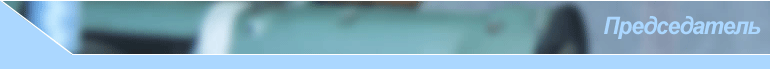Как-то раз, когда я работал над книгой, посвященной Иркутскому региональному отделению ВОГ, я попросил Леонида Семеновича Магальникова показать мне его ранние фотографии. Просьба была выполнена уже на другой день. В руках я держал несколько фото: вот он в лейтенантской форме, вот уже майор, а вот снимок маленького мальчика с небольшим трехцветным флагом в руках. Флажок на фото раскрашен, а какому государству принадлежит этот триколор, понять не могу. Как-то раз, когда я работал над книгой, посвященной Иркутскому региональному отделению ВОГ, я попросил Леонида Семеновича Магальникова показать мне его ранние фотографии. Просьба была выполнена уже на другой день. В руках я держал несколько фото: вот он в лейтенантской форме, вот уже майор, а вот снимок маленького мальчика с небольшим трехцветным флагом в руках. Флажок на фото раскрашен, а какому государству принадлежит этот триколор, понять не могу.
— Леонид Семенович, с каким это флагом вы засняты?
— С румынским.
— Почему с румынским? Ведь вы родились в Молдавии.
— Я родился в Бендерах, молдавском городе. В то время он принадлежал Румынии. Вообще карта Европы перекраивалась столько раз, что можно было родиться в одном государстве, учиться — в другом, жениться — в третьем, выйти на пенсию — в четвертом. И делать все это, не покидая родного города.
Действительно щедрая земля между Дунаем, Днестром и Прутом привлекала многих завоевателей. История утверждает, что еще в 106-м году Бессарабию завоевал римский император Траян. Затем она подверглась нашествию гуннов, аваров, славян, монголов. В середине четырнадцатого века Бессарабия стала частью независимого государства Молдавии. В начале шестнадцатого века здесь хозяйничали турки. В 1812 году эта земля была присоединена к России, через сорок четыре года — к Турции, в 1878 году — вновь к России. В смутное время, когда Россия была ослаблена гражданской войной, — шел январь 1918 года — Бессарабию оккупировала Румыния.
Вот так и получилось, что до одиннадцатилетнего возраста Леня Магальников жил в городе Бендеры, принадлежавшем государству Румыния. Радио вещало только на румынском языке, в магазинах висели таблички: «Говорить только по-румынски», в школах обучение велось исключительно на государственном языке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что маленький Леня по-румынски говорил ничуть не хуже, чем по-русски. Хотя, например, его мама так и не выучила чужой язык. А вот отец объяснялся на нем довольно хорошо. Иначе он не мог бы нормально трудиться: папа был заготовителем фруктов на консервном заводе. Конечно, тот завод довоенного времени ни по мощности, ни по технологии нельзя сравнить с современными гигантами пищевой индустрии. Но он исправно давал работникам средства к существованию, а государству — продукцию. Румыния тех лет привычно служила Европе в качестве огорода.
В семье было двое сыновей: Леня — старший, Аркаша — на шесть лет младше его. Жили Магальниковы в своем доме, довольно скромном — две комнаты и кухня. Во дворе росли цветы и фруктовые деревья. Мама вела домашнее хозяйство. Не принято было замужней женщине зарабатывать средства на пропитание. Этим занимался глава семьи: он работал с утра до позднего вечера. Понятие «отпуск» было незнакомо отцу. Маме по хозяйству помогал Леня. Например, он ходил за продуктами в лавку. Патриархальный уклад тихого городка подразумевал доверие и уважение не только в семейном кругу. Приходил мальчик в лавку, говорил, какие продукты заказала мама. Лавочник все взвесит, завернет, уложит, запишет в свою тетрадку и — до свидания. Никаких денег — ни сегодня, ни завтра, ни в конце недели. Уже потом, получив зарплату, отец рассчитывался за все покупки сразу. Так и жили, без больших финансовых пирамид и мелочных магазинных обманов.
Школа тоже сильно отличалась от нашей нынешней. Во-первых, учителями работали преимущественно мужчины. Эта профессия была столь же уважаема и высокооплачиваема, как и труд врача или юриста. Во-вторых, дисциплина поддерживалась не только авторитетом учителя, но и безотлагательным наказанием шалунов. В руках преподаватель всегда держал линейку, которая пускалась в ход, чтобы возвратить проказников к процессу познания наук. Леонид Семенович вспоминает:
— Да, такую дисциплину называют палочной. Действительно, провинившийся подставлял ладонь и получал несколько ударов линейкой. Что греха таить, как-то раз и я пять ударов заработал. Но ведь за дело! Зря никого и никогда не наказывали. Так что мой школьный опыт не позволяет мне осуждать такой строгий воспитательный подход.
В 39-м году отца неожиданно призвали из резерва в румынскую армию. Но его военная карьера закончилась столь же быстро, как и началась, — через несколько месяцев. На общем построении части полковник объявил, что каждому солдату предоставляется право выбора: либо служить на территории Румынии, либо демобилизоваться. И внушительно добавил: «Скоро мы уйдем из Молдавии, но запомните — через год она вновь будет нашей, румынской».
Через год Германия со своими сателлитами (в их число входила и Румыния) напала на СССР. В конце июня 1941 года отца мобилизовали в ряды Красной Армии. Через месяц он смог увезти семью в Тирасполь, к знакомым. Успокаивал, что все эти тревоги ненадолго, что к сентябрю враг будет разбит. Тогда очень многие так думали…
Под натиском войск противника люди отходили на восток. В Тирасполе беженцев грузили в эшелоны и отправляли в Ростовскую область. В дороге при воздушном налете немцев, ранило младшего братишку. Через неделю маму с двумя сыновьями в санитарном поезде отправили в город Карталы Челябинской области.
В 43-м году, после ранения в предплечье именно в Карталах нашел свою семью отец. Месяц он лечился, а затем до конца войны служил санитаром в одном из военно-полевых госпиталей.
Ранней весной 1945 года Магальниковы уехали в Бендеры. Город был сильно разрушен, от их дома осталось только крыльцо. Отец снял для семьи угол в одном из уцелевших домов, сам вернулся к службе в госпитале.
Через город на запад шли войска: и пешим строем, и на полуторках, и конные, и на подводах. Мальчишки бегали встречать их к мосту через Днестр. Столько лет прошло, а память Леонида Семеновича до сих пор хранит впечатления от увиденного: очень усталые лица солдат, искренняя радость жителей…
Однажды, уже в начале лета, на подоконник в их комнате сел голубь. Мама позвала своих парней: «Смотрите, дети, голубь прилетел! Он принес нам хорошую весть!» Народная примета не подвела — через несколько дней в семью вернулся отец. Вновь он приступил к работе на консервном заводе, а примерно через год Магальниковы въехали в двухкомнатную квартиру, пусть неблагоустроенную (а тогда других и не строили почти), но все-таки свою.
Осенью, как и положено, возобновились занятия в школах. Обучение шло уже на русском языке: школа как-никак советская. Отучился Леня восемь классов и надумал пойти в армию — очень уж не хотелось сидеть у родителей на шее. Был он крепким парнем, выглядел взрослее, чем на самом деле и потому, когда прибавил к своему настоящему возрасту два года, никто в военкомате не заподозрил подвоха: «Годен к строевой».
 От западной границы Союза аж до Дальнего Востока лежал путь новобранца. Служил он в Комсомольске-на-Амуре, а затем, после передислокации части, в Приморье. Об армии у Леонида Семеновича сохранились самые прекрасные воспоминания. Так ведь и армия-то какая была! Армия — победительница, армия — гордость народа, армия — школа мужества, чести и дисциплины. Это ведь нынче дурноцветом расцвела дедовщина с позорными скандалами на весь мир, нынче вошли в моду денежные поборы с первогодок, голодные бунты, подпольная торговля оружием, боеприпасами, военным имуществом. А тогда такой кошмар и присниться никому не мог. От западной границы Союза аж до Дальнего Востока лежал путь новобранца. Служил он в Комсомольске-на-Амуре, а затем, после передислокации части, в Приморье. Об армии у Леонида Семеновича сохранились самые прекрасные воспоминания. Так ведь и армия-то какая была! Армия — победительница, армия — гордость народа, армия — школа мужества, чести и дисциплины. Это ведь нынче дурноцветом расцвела дедовщина с позорными скандалами на весь мир, нынче вошли в моду денежные поборы с первогодок, голодные бунты, подпольная торговля оружием, боеприпасами, военным имуществом. А тогда такой кошмар и присниться никому не мог.
…Леня всегда был исполнительным парнем, таким его воспитали в семье. Здоровьем тоже Бог не обидел. В рядах Советской Армии такие мальчишки приходились, что называется, ко двору. Третий год службы Леня заканчивал в звании старшего сержанта, всерьез подумывал о том, чтобы остаться на сверхсрочную.
Тут его вызывает командир части и говорит, что поступила разнарядка, по которой двух человек можно направить на учебу в Калининградское военное училище МВД СССР. И поскольку старший сержант Магальников за годы службы зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, не желает ли он стать кадровым офицером?
Ни минуты не раздумывал Леня, тут же дал согласие, и вместе с еще одним солдатом своей части отправился в училище. Вот тут судьба выкинула интересное коленце. Это теперь Леонид Семенович с улыбкой вспоминает тот случай, а тогда было не до смеха. Казалось, на военной карьере надо ставить крест.
Но обо всем по порядку. Поезд, следовавший в Калининград, остановился в Минске. Не надолго, минут на тридцать-сорок. Вышел наш старший сержант прогуляться по перрону. А пофорсить-то хочется, вот и надел он офицерский ремень. Не Бог весть какое нарушение, обычное мальчишество, не больше. Так вот, прогуливается он по перрону, гордясь своим бравым видом, а перед ним вдруг вырастает военный патруль — майор и солдатик. Майор, естественно, интересуется нарушением формы одежды и отправляет нашего «модника» в комендатуру. Солдат, которому было поручено сопровождать Леню, и говорит, мол, ты отдай-ка мне этот ремешок, а я тебя отпущу. Казалось бы, обрадоваться надо было старшему сержанту да и уладить все миром. Ан нет, гонор заел Леню, не отдал он ремень.
В комендатуре послушали объяснения нашего гордеца, пожурили за нарушение формы, ну и отпустили: грех-то совсем невелик. Все бы ничего, только поезд ушел. Но и это не самым страшным оказалось. Добрался Леня до училища, только разместился, вдруг его вызывает сам начальник, а это тревожный знак внимания к персоне. Полковник ехидно
спрашивает Магальникова:
— Ну, расскажи-ка мне, как ты сбежал с Минской комендатуры?
— Я не сбегал, товарищ полковник, — упавшим голосом отвечает Леня.
— Не сбегал? А вот читай бумагу: «За побег с Минской комендатуры старшего сержанта Магальникова подвергнуть аресту на 7 суток с содержанием на гауптвахте».
Рассказал наш «модник», как дело было, начальник училища спокойно выслушал и говорит:
— Ну что же, мне теперь все ясно. Но на гауптвахту ты пойдешь, я права не имею не выполнить приказ.
Сама по себе «губа» не страшила Магальникова, да и условия там такие были — почти курорт. Но не отдыхалось старшему сержанту, тревога глодала сердце. Думал, маясь от безделья: «Эх, придется чемодан собирать да обратно ехать…»
Прошли сутки, другие. Вечером третьего дня дежурный офицер отправил его на работу: эшелон с углем пришел для училища, всем дела хватит. За ночь разгрузили вагоны, а нарушителя за хорошую работу досрочно освободили с «губы». И к экзаменам его допустили: начальство умело отличать мальчишество от проступков. Успешно сдал экзамены будущий курсант. Снова его вызывает начальник училища:
— Решили мы тебя старостой группы назначить. Справишься?
— Конечно, товарищ полковник. Я же служил помкомвзвода.
И началась учеба. С интересом постигал Леня военную науку. Сама обстановка в училище всемерно способствовала этому: хорошее обмундирование, прекрасное питание, высочайшая дисциплина, товарищеские взаимоотношения. Надо заметить, что училище располагалось у самой границы с Польшей, в небольшом городке Багратионовск, в здании бывшего немецкого военного училища: интерьеры казарм отделаны дубом, на территории везде асфальт и брусчатка, полигоны и стрельбища расположены рядом. В общем, только учись. Добавим к этому, что денежное довольствие по службе у Лени значительно отличалось от обычного курсантского. Если другим выплачивали по 75 рублей в месяц, то ему по аттестату — триста. Значительную часть этих денег Леня отправлял домой маме.
Учась на последнем курсе, он познакомился со своей будущей женой. Нина, коренная москвичка, после окончания сельскохозяйственной академии получила распределение на работу в техникум Багратионовска. Приехала, поселилась на квартире. А дочка хозяев была ее ровестница, она-то и позвала Нину на танцы в Дом офицеров, где по субботам и воскресеньям играл духовой оркестр училища. Вот там, на танцах, и увидел эффектную девушку курсант последнего года обучения. Полгода он ухаживал за ней, а в июле, сразу, как стал лейтенантом, состоялось их бракосочетание.
Офицер Магальников получил назначение в Иркутск. Прибыли они с женой в столицу Восточной Сибири 6 ноября 1954 года. Город встретил их 36-градусным морозом. Леня в шинели, Нина в сусликовой шубке и тонких чулочках сразу ощутили хватку сибирской зимы. Стуча зубами добрались они до Цессовской набережной: в один из домов им была дана рекомендация из Москвы, от знакомых. Здесь сняли комнату за 250 рублей в месяц. Нина устроилась на работу в противочумный институт, а немного позднее — в Иркутский сельскохозяйственный. Леонида ждала работа оперативника в милиции Сталинского района.
Много случаев из милицейской практики хранит память Леонида Семеновича. Пожалуй, на целую книгу хватит. Вот один из них. Однажды в милицию обратился импозантного вида мужчина. Был он весьма встревожен. Посетитель рассказал оперуполномоченному Магальникову, что в Иркутске находится в командировке, а вчера с ним произошел чрезвычайный случай. Вечером, когда он зашел в универмаг на улице Урицкого, к нему подошли двое неизвестных, наставили ножи и отобрали дипломат с деньгами и документами.
Леонид Семенович тут же уточнил:
— Когда это случилось?
— Вчера, около 17 часов.
— Вы ничего не перепутали?
— Нет.
— Значит, вчера?
— Да.
— Хорошо. Пойдемте на место происшествия.
Дошли они до универмага, пострадавший показал место, где, по его словам, все произошло, затем вернулись в отделение. Леонид Семенович переспросил еще раз:
— Вы не путаете дату происшествия? Вчера?
— Нет, не путаю. Вчера.
— Если не путаете, то я поясню: вчера был понедельник, а в этот день универмаг, как и все промтоварные магазины у нас в Иркутске, не работает. Так что же произошло?
Посетитель побледнел, на какое-то время лишился дара речи, а потом признался:
— Вы знаете, я наврал вам. Никто не нападал на меня. Я был у женщин, они напоили меня, очнулся на улице — ничего не помню. Где был, что приключилось, не знаю.
Вот такой случай из практики. Вроде бы, простой совсем. Но показательно то, что находившиеся в одной комнате с Магальниковым двое его коллег, тоже слышавшие признания «потерпевшего», не смогли раскусить его обман.
Служа в милиции, Леонид Семенович поступил на заочное отделение юридического факультета Иркутского государственного университета. В области уголовного права практика у него была более чем богатая. Зато по гражданскому праву — почти никакой. Когда до окончания учебы оставался год, знакомые юристы пригласили Леонида Семеновича на беседу с главным арбитром области, в ходе которой ему поступило предложение занять должность начальника юридического отдела Восточно-Сибирского речного пароходства.
Без малого два десятилетия проработал в пароходстве Л.С. Магальников, в том числе пятнадцать лет был секретарем парткома. Тут уже не только юридические вопросы приходилось решать. Люди шли за помощью по всем проблемам — и квартирным, и семейным, и производственным.
Однажды, дело было в 1980 году, пригласили Магальникова на беседу к заведующему отделом науки обкома КПСС. Надо заметить, что кроме собственно научных учреждений отдел курировал работу и общественных организаций. Заведующий отделом рассказал, что обком решил усилить руководство областной организации ВОГ. Как смотрит секретарь парткома пароходства, если именно его рекомендуют на пост председателя правления? Это предложение было весьма неожиданным и Леонид Семенович попросил время на его обдумывание.
Он познакомился с производством, побывал на законсервированном строительстве здания нового корпуса УПП ВОГ, поприсутствовал на пленуме областной организации общества, посоветовался со знающими людьми, и только после этого принял решение браться за новое дело.
Затем последовала встреча с заместителем председателя Иркутского облисполкома Л.Г. Пынько, где состоялся подробный разговор о предстоящей работе. Затем — беседа со вторым секретарем обкома партии, после которой по рекомендации обкома Магальникова на областной отчетно-выборной конференции избрали председателем правления.
Первая трудная задача, вставшая перед новым руководителем, было оживление долгостроя производственного корпуса. Одиннадцать лет назад строители начали работу на Култукской, 13. Был заложен фундамент, смонтирована коробка и к 80-му году дело совсем заглохло. Ни в планах строителей, ни в планах облисполкома, ни в планах обкома КПСС объект не числился не только как подлежащий вводу в эксплуатацию, но и даже в качестве переходящего на следующий год. Стройка была абсолютно мертва…
Когда через два года производственный корпус УПП ВОГ вводился в строй действующих, сам начальник строительного управления вполне искренне задал Магальникову вопрос: «Слушай, а как это тебе удалось заставить нас завершить строительство? Ведь тут площадка уже бурьяном поросла…»
Действительно, как же удалось пробудить интерес строителей к ненужному им объекту? Если попытаться ответить одной фразой, то надо сказать так: Магальникову удалось всех поднять на ноги. За ходои строительства стали следить не только начальник стройуправления, не только руководство главка, но и представители Министерства промышленного строительства СССР. На рабочих планерках у строителей частенько бывал и заместитель председателя облисполкома Л.Г. Пынько.
…Делая небольшое отступление от строительной тематики, замечу, что именно Леонида Григорьевича считает Магальников самым компетентным, самым деловым из всех зампредов облисполкома, с кем впоследствии приходилось ему работать:
— Он был профессионалом в подлинном смысле этого слова. Ведь как порой бывает? Придешь к иному руководителю на прием, расскажешь о проблемах общества, а он не то что решение принять, он даже вникнуть в суть вопроса не может. Просто-напросто он не понимает меня. С Леонидом Григорьевичем можно было обсуждать любой сложнейший вопрос. Он всегда готов был принять, выслушать и помочь людям. Большой души человек!
Но вернемся в начало 80-х годов. Итак, здание УПП было введено в эксплуатацию. Рабочими оно воспринималось как дворец, особенно после прежних убогих помещений. По всей России не более пяти подобных комплексов находилось в распоряжении ВОГ.
Новое здание позволило полностью обновить и технологическое оборудование, значительно расширить ассортимент изделий, разнообразить их фасоны и модели. Выросли объемы производства и качество продукции, а вместе с этими важнейшими показателями труда коллектива выросла и заработная плата.
Следующим достижением в строительстве, удивившим видавших виды хозяйственников, стало возведение собственного 90-квартирного жилого дома рядом со зданием УПП. Вы спросите, а чему, собственно, удивлялись руководители других иркутских предприятий? Чтобы понять это, нужно вспомнить обстановку тех лет в строительном комплексе. Почти у каждой организации имелись деньги на строительство жилья. УКС горисполкома, выступавший единым заказчиком по Иркутску, просто отбивался от «лишних» денег: не хватало строительных мощностей, стройматериалов, рабочих рук, чтобы все имевшиеся финансы превратить в новые жилые дома. Для того, чтобы в этой обстановке добиться включения строительства собственного дома в планы, нужно было обладать невероятной пробивной силой и организационными способностями. Иркутский завод имени Куйбышева, например, огромное в те годы предприятие, не мог похвастать такими ударными темпами строительства. А тут никому не ведомая «контора», какая-то общественная организация, вдруг строит свой дом. Как не удивиться этому?..
В 1990 году В Иркутске рядом с производственным корпусом возведено общежитие на 200 мест. Впрочем, жилищные вопросы Магальникову удавалось решать не только в Иркутске, но и по области в целом. Дело было поставлено так, что работников, остро нуждающихся в жилье, просто-напросто не осталось. На улучшение жилищных условий желающие были, а так, чтобы совсем без крыши над головой, — нет.
Очень серьезное внимание уделял председатель трудовой реабилитации молодежи, в том числе созданию учебной части. Под нее были отданы два этажа общежития, три комнаты производственного корпуса. Выпускницы школ по прибытию на УПП обеспечивались жильем, получали стипендию и талоны на питание. Девушки обучались швейному ремеслу в двух группах — индивидуального и массового пошива одежды. В классе теории помимо собственно профессиональных знаний учащимся преподавались основы права, читался курс эстетики и — для расширения кругозора — сообщались новости жизни страны. Еще для девчат организовывались поездки на Байкал, посещение музеев и так далее. Таким образом, не только профессиональная подготовка была задачей учебной части, но и забота об общем развитии учащихся. Для реабилитационной слуховой работы специально был оборудован сурдологический кабинет. Всей подготовкой и руководством учебной частью ведала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Сергеевна Гладышева.
Особо следует отметить новаторство Леонида Семеновича в реорганизации структуры управления. Впервые в России именно в Иркутске он создал производственное объединение, сосредоточив управление как производством, так и общественной организацией в одних руках. В тех регионах России, где во главе правления стоит один человек, а производством командует другой, к сожалению, часты конфликты. И какие конфликты!
Жизнь доказала правильность новой схемы управления нее только в Иркутске, но и в других городах. Центральное правление ВОГ рекомендовало опробованную у нас схему к внедрению в других региональных организациях общества.
Дом культуры имени Горького, сданный в эксплуатацию в 1967 году, через 13 лет выглядел, скажем мягко, далеко не лучшим образом. С приходом Магальникова и ДК тоже преобразился: обшарпанные деревянные жесткие кресла зрительного зала были заменены на новые — с мягкими сиденьями, полностью была обновлена и вся другая мебель. Стены украсились картинами, на окнах появились новые шторы. Вместо ничем не примечательного травяного газона перед фасадом ДК расцвели цветы.
К работе с участниками художественной самодеятельности были привлечены профессионалы. Когда Магальников увидел на артистах убогие, скажем прямо, костюмы, он не только поморщился от неприглядной картины, он велел заказать новые: «Вы посмотрите, какие красивые ребята и девчата выступают! Вот и костюмы должны быть под стать им».
Не сразу, не по мановению волшебной палочки, но именно в результате пристального внимания к развитию самодеятельности иркутские артисты все чаще стали завоевывать престижные награды. Вскоре все зональные смотры самодеяттельности глухих начали проводиться именно в нашем ДК: так вырос его авторитет.
Не только в областном центре, а и в других городах Приангарья преобразились клубы и красные уголки. Леонид Семенович перед всеми ставил вполне конкретную задачу: клубы должны быть такими, чтобы людей туда тянуло. Для этого он заставлял проводить ремонт помещений, покупать цветные телевизоры, чайные сервизы, игры и так далее.
Кто бы ни придумал лозунг: «Кадры решают все», он верен всегда и везде, при любых политических режимах. С приходом Магальникова изменилась сама атмосфера в работе аппарата. Нет, он не выгонял нерадивых, он требовал от них выполнения своего служебного долга. И самое главное, старался в этом быть личным примером для подчиненных. В общем-то, люди сразу поняли суть его характера: никакого панибратства, никаких увеселений на службе. Главное — работа, работа и еще раз работа, общее дело. Можно привести очень много примеров, подтверждающих, что атмосфера на предприятии стала другой. Я думаю, будет достаточно одного факта: если до прихода Магальникова жалобами и кляузами, исходящими с УПП, занимались партийные, советские и профсоюзные органы Иркутска и даже Москвы, то с его появлением они совершенно исчезли. Этот факт сгодится и для книги рекордов Гиннеса.
С уверенностью могу сказать, что и дальше жизнь Иркутской областной организации ВОГ продолжалась бы только по восходящей линии, если бы в стране не произошли тее ужасающие разрушительные процессы, которые почему-то власть называет «реформами». Все нормальные правительства нормальных стран мира совершенно четко осознают, что инвалиды — это категория граждан, нуждающихся в постоянной опеке государства и местных органов власти. А вот «реформаторское» руководство России швырнуло инвалидов в дикий рынок, то есть в борьбу за выживание, в которой слабый должен умереть.
В нашем случае это выглядело так: УПП ВОГ, а затем и Иркутское производственное объединение ВОГ получали от облисполкома 100-проценттный заказ на свою швейную продукцию. Таким образом, гарантированы были и поставки ткани, и сбыт изделий, и работа трудящихся, и ежемесячная их зарплата. Вдруг в 1992 году управление снабжения и сбыта облисполкома в одночасье ликвидируется, возникает коммерческая структура, которой абсолютно нет дела до инвалидов. Ткань стало возможно приобрести исключительно по предоплате, а как это сделать, если оборотных средств просто не хватает? И это не единственный оскал «реформ». В тот год предприятию удалось встать с колен только благодаря поддержке коммерческого центра ВОГ, присылавшего ткань в долг.
Второй страшный удар по нашим людям с ограниченными физическими возможностями нанесен «рыночными» отношениями, приведшими к повсеместному сворачиванию производства, в том числе и в электронной промышленности страны. 54 работника УПП трудились на участке сборки резисторов для объединения «Радиан». В результате «реформ» и резисторы стали не нужны, как не нужны и рабочие руки, собиравшие их. Конечно, люди не пошли по миру с протянутой рукой, Магальникову удалось их трудоустроить, но это уже никак не забота правительства. Скорее, это сделано вопреки потугам «реформаторов».
Вопиющим примером некомпетентности и жестокосердия власти стало судебное дело по складу, располагавшемуся на улице Партизанской, 28 «в» областного центра. Перво-наперво отмечу, что за 80 лет существования Иркутской организации ВОГ из бюджетов города и области не было выделено ни единого рубля на строительство зданий и сооружений для глухих. В том числе и упомянутый склад был построен на свои деньги. В свое время склад был сдан в аренду заводу «Сибирский сувенир». Когда завод вдруг отказался платить по договору, а его представители самым наглым образом стали утверждать, что здание принадлежит им, а не ВОГ, областная администрация в лице заместителя губернатора Кустова и председателя комитета по управлению госимуществом Дворниченко вдруг выступила на стороне сутяг — неплательщиков. В течение года 15 судей арбитражных инстанций раз за разом признавали ВОГ истинным владельцем здания, но областные чиновники, даже не удосужившись переговорить с Магальниковым, упрямо стояли на стороне правонарушителей. Г-н Дворниченко примчался в объединение только тогда, когда быо поставлен в известность о предстоящем пикетировании глухими областной администрации.
Где оно, священное право собственности? Как его понимают областные чиновники? И о каком милосердии можно говорить после этого скандала?
С приходом к руководству области А.Г. Тишанина многое, как считает Леонид Семенович, стало изменяться в лучшую сторону. Областная власть во главе с губернатором стала прилагать немало усилий, чтобы вытащить Приангарье из застоя. Конечно, сразу всех проблем не решить, но вектор движения к динамичному развитию области отчетливо заметен.
Многое изменилось и после того, как Главное управление социальной защиты населения Иркутской области возглавил С.В. Круть. Благодаря активному взаимодействию ГУСЗН с обществами инвалидов был разработан и принят Закон Иркутской области о квотировании рабочих мест для инвалидов Иркутской области № 28-0З от 10.06.2003 г.
В 2003-2005 годах заказы на продукцию, поступившие через управление, превышали 80 процентов в портфеле государственных заказов предприятия. А в 2006 году этот показатель составил уже 100 процентов. Таким образом, производство и сами трудящиеся обеспечены работой именно благодаря заботе о них управления соцзащиты.
За последние три года ГУСЗН выделило на модернизацию оборудования 3 миллиона 334 тысячи рублей. На эти средства технологический парк производства пополнился самым современным импортным и отечественным оборудованием.
В 2006 году на проведение капитального ремонта Дома культуры имени Горького управление выделило полтора миллиона рублей. Благодаря этому весь интерьер зрительного зала полностью преображен, выполнен частичный ремонт электрооборудования.
В течение ряда лет ежегодно выделяемая финансовая поддержка в объеме 1 миллион 299 тысяч рублей позволяет проводить социально-реабилитационную, организационно- массовую, культурную и спортивную работу в Иркутском региональном отделении ВОГ. Таким образом, именно систематическая планомерная поддержка со стороны ГУСН позволяет нашим землякам с ограниченными физическими возможностями иметь работу, проходить реабилитацию и с пользой организовывать свой досуг.
…Впервые за всю историю Иркутской областной организации ВОГ ее председатель удостоен почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ». Это радует и впечатляет, эта награда действительно присуждена по заслугам. Но лично на меня ничуть не меньшее впечатление произвели отзывы о Леониде Семеновиче тех, кто ежедневно работает с ним. Я разговаривал с очень многими людьми: в Магальникове они ценят крепкого хозяина, болеющего за общее дело, умеющего найти выход из сложнейшей ситуации. Ценят как человека душевного, внимательного к людям, помогающего и в радости, и в беде.
Много добрых слов сказали о нем мои собеседники. Я добросовестно записывал их, но привести хочу лишь мнение Н.А. Закрутной, человека с непререкаемым для меня авторитетом:
— За все годы существования Иркутской организации ВОГ Магальников — самый серьезный председатель. Он человек слова. Не просто умелый руководитель, он за дело болеет душой. Обществу очень повезло с председателем. 
Вячеслав Смирнов |